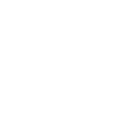Ещё в законе нет одной вещи, которую так долго ждали многие авторы. А именно: не определён перечень и порядок ведения отчётной документации организаций, осуществляющих публичное воспроизведение произведений по, в отличие от большинства современных стран, где такие правила давно есть. Где долгожданные изменения в законодательстве, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ организации ОТЧИТЫВАТЬСЯ за воспроизведение и продажу фонограмм? Где изменения в правила ведения бухгалтерского, подчёркиваю, бухгалтерского учёта? Особенно это касается кафешек и ресторанчиков. Об этом говорили давно, почему этого до сих пор нет?
O наших правах
- Автор темы Freddy Kruger
- Дата начала
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Предлагаю вашему вниманию отрывки из статьи В.И. Еременко, доктора юридических наук,
начальник отдела права Евразийского патентного ведомства, опубликованной в журнале "Законодательство и экономика", N 4, апрель 2007 г.
в теоретическом плане часть четвертая ГК РФ основана на эклектически собранных отрывках из различных патентно-правовых теорий, что объективно отражает состояние научной мысли в нашей стране в сфере интеллектуальной собственности.
Не вызывает сомнения, что все заложенные в ГК РФ противоречия создают атмосферу правовой неопределенности, способствуют административному произволу, повышают уровень коррупции в чиновничьем аппарате.
Вопреки ожиданиям не произошло либерализации правового регулирования договорных отношений в сфере распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, усилено администрирование в указанной сфере без достаточных на то оснований.
Создается впечатление, что разработчики законопроекта взялись за непосильную для себя работу, и хотя они избрали самый легкий путь исчерпывающей (полной) кодификации законодательства об интеллектуальной собственности, избежав при этом в определенной степени отрицательного эффекта дублирования норм кодекса и специальных законов, конечный результат их усилий нельзя признать положительным.
По многим вопросам часть четвертая ГК РФ изобилует противоречиями, особенно между положениями главы 69 "Общие положения" и положениями, относящимися к отдельным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
Зачастую такие противоречия допускают различное толкование, способствующее усилению государственного вмешательства в сферу гражданского оборота результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, правовой неопределенности и коррупционному давлению на правообладателей.
Почему же получен столь плачевный результат, хотя над законопроектом более 10 лет трудились специалисты Исследовательского центра частного права при Президенте РФ? На мой взгляд, причиной всему пресловутый человеческий фактор, о котором так метко сказал в свое время один из главных разработчиков законопроекта В.А. Дозорцев, когда характеризовал сторонников исчерпывающей (полной) кодификации законодательства об интеллектуальной собственности: "Недаром подобные предложения исходят от цивилистов, специально не занимавшихся проблемами интеллектуальных прав, соображения которых при разработке проектов могут быть полезны для оценки представленного материала, для его компоновки, отработки формулировок, редактирования текста"*(9).
Кроме того, существуют и объективные причины, негативно влияющие на кодификацию законодательства об интеллектуальной собственности. В основном это неоднородность самих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, что существенно затрудняет составление для таких результатов и средств общих положений и неизбежно приводит к дублированию положений, относящихся к таким результатам и средствам.
Именно по этой причине в большинстве государств мира отказались от идеи кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в рамках гражданских кодексов. В государствах с развитой традицией кодификации в различных отраслях законодательства пошли по пути принятия самостоятельных кодексов интеллектуальной собственности или иных комплексных нормативных актов.
К сожалению, опыт таких государств остался невостребованным в России, что и привело к самому неожиданному и ущербному варианту кодификации законодательства об интеллектуальной собственности.
Небезынтересно также ознакомиться с перечнем лиц (вот они, наши герои – мой. комм.), которые были непосредственно причастны к процедуре принятия законопроекта. Согласно распоряжению Президента РФ от 18 июля 2006 г. N 325-рп официальными представителями Президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проектов части четвертой ГК РФ и Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" были назначены первый заместитель Председателя Правительства РФ Д.А. Медведев, советник Президента РФ В.Ф. Яковлев и первый заместитель центра частного права А.Л. Маковский.
А теперь немного пробежимся по некоторым косякам…
В пункте 3 ст. 1229 сделана попытка правового регулирования совместного обладания исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, которую нельзя признать удовлетворительной. По сути, положения о совместном обладании исключительными правами не содержат императивных норм, так как они снабжены ссылками либо на Кодекс, либо на соглашения между правообладателями. Особенно нелепо выглядит положение о том, что распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если Кодексом не предусмотрено иное. Здесь вообще не просматривается никакого регулирования, поскольку в разделе VII Кодекса по этому вопросу ничего не предусмотрено, а нормы главы 16 ГК РФ ("Общая собственность") относятся к имуществу.
Нетрадиционный подход к установлению перечня контрафактных действий в российском гражданском законодательстве чреват серьезными осложнениями, особенно в сфере уголовной ответственности. Как известно, согласно ст. 147 УК РФ "Нарушение изобретательских и патентных прав" незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет за собой, помимо других, более мягких наказаний (штраф, обязательные работы, арест), лишение свободы на срок до двух лет, а по квалифицированным признакам - на срок до пяти лет. Выходит, что ГК РФ открывает возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые непосредственно не указаны в законе, что грубо нарушает принципы возложения уголовной ответственности.
Признание исключительного права на использование наименования места происхождения товара (ст. 1519) не соответствует как законодательствам государств с развитым правопорядком, так и международному праву (ст. 5 Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации).
В статье 1254 предусмотрены особенности защиты прав лицензиата в случае, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права этого лицензиата. Из вышеизложенного следует, что указанной защиты лишены другие лицензиаты, например обладатели неисключительной лицензии, что не соответствует мировой практике.
Норма п. 3 ст. 1250 "Защита интеллектуальных прав" о том, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав, в принципе соответствует положениям законодательств государств с развитым правопорядком. Однако следует признать, что норма п. 1 ст. 1250 этой статьи ограничивает способы защиты интеллектуальных прав способами, предусмотренными настоящим Кодексом (судебное разбирательство), а это входит в противоречие с нормой ст. 12 ГК РФ о том, что защита гражданских прав осуществляется также иными способами, предусмотренными законом.
Не унифицированы и грешат противоречиями нормы, относящиеся к государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Так, общая норма, закрепленная в ст. 1232, предписывает, что порядок и условия государственной регистрации указанных результатов и средств устанавливаются Правительством РФ. Однако в ст. 1490 указано, что порядок государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (в настоящее время - Министерство образования и науки РФ), т.е. в этой статье в нарушение положений ст. 1232 понижен уровень правового регулирования.
Усилены меры защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Впервые в гражданское законодательство включена норма (ст. 1253) о возможности принятия судом решения о ликвидации юридического лица по требованию прокурора, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В отношении гражданина, допускающего подобные нарушения, судом в установленном законом порядке может быть принято решение о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Однако следует выразить обеспокоенность по поводу неопределенности критериев ликвидации юридического лица и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, в частности таких, как неоднократность нарушения исключительного права и грубость такого нарушения, а также о чрезмерности и неадекватности самой этой меры, которая не присуща гражданскому праву государств с развитым правопорядком.
Не вызывает сомнения, что указанная норма может быть использована в коррупционной схеме для целей недобросовестной конкурентной борьбы на рынке. Думается, эта норма принесет больше вреда, чем пользы. !!!
начальник отдела права Евразийского патентного ведомства, опубликованной в журнале "Законодательство и экономика", N 4, апрель 2007 г.
в теоретическом плане часть четвертая ГК РФ основана на эклектически собранных отрывках из различных патентно-правовых теорий, что объективно отражает состояние научной мысли в нашей стране в сфере интеллектуальной собственности.
Не вызывает сомнения, что все заложенные в ГК РФ противоречия создают атмосферу правовой неопределенности, способствуют административному произволу, повышают уровень коррупции в чиновничьем аппарате.
Вопреки ожиданиям не произошло либерализации правового регулирования договорных отношений в сфере распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, усилено администрирование в указанной сфере без достаточных на то оснований.
Создается впечатление, что разработчики законопроекта взялись за непосильную для себя работу, и хотя они избрали самый легкий путь исчерпывающей (полной) кодификации законодательства об интеллектуальной собственности, избежав при этом в определенной степени отрицательного эффекта дублирования норм кодекса и специальных законов, конечный результат их усилий нельзя признать положительным.
По многим вопросам часть четвертая ГК РФ изобилует противоречиями, особенно между положениями главы 69 "Общие положения" и положениями, относящимися к отдельным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
Зачастую такие противоречия допускают различное толкование, способствующее усилению государственного вмешательства в сферу гражданского оборота результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, правовой неопределенности и коррупционному давлению на правообладателей.
Почему же получен столь плачевный результат, хотя над законопроектом более 10 лет трудились специалисты Исследовательского центра частного права при Президенте РФ? На мой взгляд, причиной всему пресловутый человеческий фактор, о котором так метко сказал в свое время один из главных разработчиков законопроекта В.А. Дозорцев, когда характеризовал сторонников исчерпывающей (полной) кодификации законодательства об интеллектуальной собственности: "Недаром подобные предложения исходят от цивилистов, специально не занимавшихся проблемами интеллектуальных прав, соображения которых при разработке проектов могут быть полезны для оценки представленного материала, для его компоновки, отработки формулировок, редактирования текста"*(9).
Кроме того, существуют и объективные причины, негативно влияющие на кодификацию законодательства об интеллектуальной собственности. В основном это неоднородность самих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, что существенно затрудняет составление для таких результатов и средств общих положений и неизбежно приводит к дублированию положений, относящихся к таким результатам и средствам.
Именно по этой причине в большинстве государств мира отказались от идеи кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в рамках гражданских кодексов. В государствах с развитой традицией кодификации в различных отраслях законодательства пошли по пути принятия самостоятельных кодексов интеллектуальной собственности или иных комплексных нормативных актов.
К сожалению, опыт таких государств остался невостребованным в России, что и привело к самому неожиданному и ущербному варианту кодификации законодательства об интеллектуальной собственности.
Небезынтересно также ознакомиться с перечнем лиц (вот они, наши герои – мой. комм.), которые были непосредственно причастны к процедуре принятия законопроекта. Согласно распоряжению Президента РФ от 18 июля 2006 г. N 325-рп официальными представителями Президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проектов части четвертой ГК РФ и Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" были назначены первый заместитель Председателя Правительства РФ Д.А. Медведев, советник Президента РФ В.Ф. Яковлев и первый заместитель центра частного права А.Л. Маковский.
А теперь немного пробежимся по некоторым косякам…
В пункте 3 ст. 1229 сделана попытка правового регулирования совместного обладания исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, которую нельзя признать удовлетворительной. По сути, положения о совместном обладании исключительными правами не содержат императивных норм, так как они снабжены ссылками либо на Кодекс, либо на соглашения между правообладателями. Особенно нелепо выглядит положение о том, что распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если Кодексом не предусмотрено иное. Здесь вообще не просматривается никакого регулирования, поскольку в разделе VII Кодекса по этому вопросу ничего не предусмотрено, а нормы главы 16 ГК РФ ("Общая собственность") относятся к имуществу.
Нетрадиционный подход к установлению перечня контрафактных действий в российском гражданском законодательстве чреват серьезными осложнениями, особенно в сфере уголовной ответственности. Как известно, согласно ст. 147 УК РФ "Нарушение изобретательских и патентных прав" незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет за собой, помимо других, более мягких наказаний (штраф, обязательные работы, арест), лишение свободы на срок до двух лет, а по квалифицированным признакам - на срок до пяти лет. Выходит, что ГК РФ открывает возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые непосредственно не указаны в законе, что грубо нарушает принципы возложения уголовной ответственности.
Признание исключительного права на использование наименования места происхождения товара (ст. 1519) не соответствует как законодательствам государств с развитым правопорядком, так и международному праву (ст. 5 Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации).
В статье 1254 предусмотрены особенности защиты прав лицензиата в случае, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права этого лицензиата. Из вышеизложенного следует, что указанной защиты лишены другие лицензиаты, например обладатели неисключительной лицензии, что не соответствует мировой практике.
Норма п. 3 ст. 1250 "Защита интеллектуальных прав" о том, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав, в принципе соответствует положениям законодательств государств с развитым правопорядком. Однако следует признать, что норма п. 1 ст. 1250 этой статьи ограничивает способы защиты интеллектуальных прав способами, предусмотренными настоящим Кодексом (судебное разбирательство), а это входит в противоречие с нормой ст. 12 ГК РФ о том, что защита гражданских прав осуществляется также иными способами, предусмотренными законом.
Не унифицированы и грешат противоречиями нормы, относящиеся к государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Так, общая норма, закрепленная в ст. 1232, предписывает, что порядок и условия государственной регистрации указанных результатов и средств устанавливаются Правительством РФ. Однако в ст. 1490 указано, что порядок государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (в настоящее время - Министерство образования и науки РФ), т.е. в этой статье в нарушение положений ст. 1232 понижен уровень правового регулирования.
Усилены меры защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Впервые в гражданское законодательство включена норма (ст. 1253) о возможности принятия судом решения о ликвидации юридического лица по требованию прокурора, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В отношении гражданина, допускающего подобные нарушения, судом в установленном законом порядке может быть принято решение о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Однако следует выразить обеспокоенность по поводу неопределенности критериев ликвидации юридического лица и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, в частности таких, как неоднократность нарушения исключительного права и грубость такого нарушения, а также о чрезмерности и неадекватности самой этой меры, которая не присуща гражданскому праву государств с развитым правопорядком.
Не вызывает сомнения, что указанная норма может быть использована в коррупционной схеме для целей недобросовестной конкурентной борьбы на рынке. Думается, эта норма принесет больше вреда, чем пользы. !!!
фактически нормально получить бабло можно только при первичном получении гонорара от заказчика, если таковой имеется, после чего наступает сместь коммунизма с капитализмом и примесью буддизма - ничто никому не принадлежит, но на этом высшие касты могут сделать нехилое бабло из воздуха...
это пиздец, простите меня за мой французский... :wacko:
это пиздец, простите меня за мой французский... :wacko:
<div class='quotetop'>Цитата(Vasfed @ Jul 27 2007, 01:52 AM) [snapback]475102[/snapback]</div>
<div class='quotetop'>Цитата(Vasfed @ Jul 27 2007, 01:52 AM) [snapback]475102[/snapback]</div>
Ну вот мы и живём при капитализме, ведь его негласный закон - деньги идут к деньгам?! B)но на этом высшие касты могут сделать нехилое бабло из воздуха...
[/b]
<div class='quotetop'>Цитата(Vasfed @ Jul 27 2007, 01:52 AM) [snapback]475102[/snapback]</div>
"peace death" - англицкий!это пиздец, простите меня за мой французский... :wacko:
[/b]
Ребята хочу задать вопрос на отвлечённую тему. Кто знает, что считается плагиатом в песне? Сколько нот в такте или тактов в песне похожего мелодического фрагмента? Я имею ввиду не нагло срубленную тему, а случайное совпадение каких либо фрагментов. Пожалуйста ответте кто знает эти законные стандарты. Спасибочки. 
Вот в связи с надвигающимся законом мне рассказали такую телегу, что теперь всем кабацким лабухам придет трындец, потому что для публичного исполнения какой-либо песни теперь требуеться разрешение праводержателя. И типо владельцы кабаков уже ищут коллективы исполняющие СВОЙ уникальный материал. Т.е. кавер-коллективы и любое публичное исполнение псесен Аллы Борисовны и Ласкового мая без их ведома с 1 января будут объявлены вне закона.
Прокомментируйте, господа, подкованные в юриспруденции.
Прокомментируйте, господа, подкованные в юриспруденции.
Лабухам должен был настать конец лет пять назад. Исполнение чужих песен у нас давно запрещено. Есть такое понятие как исключительно право исполнения песни. Просто никто не соблюдал прав исполнителя. Даже когда лабухи в нарушение закона исполняли чужие песни, владелец общепита / клуба должен был отстёгивать авторские. Сейчас контроль государства будет ужесточён. Завтра, послезавтра напишу конкретнее, что и как.
Сейчас просматривают
Всего: 1 (пользователей: 0, гостей: 1)