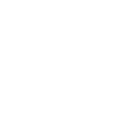я пьян ....5 часов утра...осенняяя депрессия...
- Автор темы Zerocool
- Дата начала
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
SergEx
Стругацкие не к нашим попали?
Zerocool
А к Стругацким как относишься?
...Саймака, Шекли, Бредбери, Хайнлайна, Стругацких, Айзимова, из наших - Булгакова, Лукьяненко и Перумова.
Стругацкие не к нашим попали?
Zerocool
А к Стругацким как относишься?
...Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в
темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от
прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы
ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые
кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а
раньше снились больше Амуры да Венеры. <...> Во время таких вот
приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все
чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей:
не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди
ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться
в ванную и воевать с неисправным смесителем, затем лезть под душ уже без
всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься
за завтрак... И мало того, что противно было думать о еде: раньше после
еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрав глаза,
а теперь вот и этого у меня нет...
Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его,
и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и
станет поучительно и в тоже время с наглостью поучать меня, что кино имеет
свой язык, что в кино главное - образы, а не слова, и непременно станет он
щеголять доморощенными афоризмами вроде: \"Ни кадра на родной земле\" или
\"Сойдет за мировоззрение\"... Какое мне дело до него, до его мелких
карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится
дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с
желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...
И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим
мне не следует, но, видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и
остался, и никогда уже не стану никем другим, напиши я хоть сто
\"Современных сказок\", потому что откуда мне знать: может быть, и синяя
папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, - тоже никакая не
баранина, а та же псина, только с другой живодерни...
<...> Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым
новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить
человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне
хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она не была, эта моя
слава. Деньги добывать проще халтурою, чем честным писательским трудом. А
так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился.
Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю.
Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних людей? Я ведь
прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого бы не заметил.
Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком,
тоже ничего, ну, ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни
к худшему.
Да что там Сорокин Ф.А.? Вот сейчас утро. Кто сейчас в
десятимиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом эль эн? Кроме
разве школьников, не приготовивших урока по \"Войне и миру\"... Потрясатель
душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной
Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта такая
простенькая и такая мертвящая мысль.
<...> Привычная тоска овладела мною. Между двумя ничто проскакивает слабенькая
искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в
предстоящем ничто, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и
где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы
втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно
угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и
первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие
есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя
имела смысл.
И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта
действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над
такими предметами, и только перевалив через некую вершину, пустившись
неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это - лишь слова,
бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям,
потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты единую
теорию поля или построил дачу из ворованного материала, - к делу это не
относится, ибо есть лишь ничто до и ничто после, и жизнь твоя имеет смысл
лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...
<...>Сначала такие
приступы меня даже пугали: я поспешно прибегал к испытанному средству от
всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и
спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень, - пусть
даже небольшой, местного значения, - вновь обретал для меня убедительность
неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину
вселенской тоски стали привычными, а от спиртного меня отлучили, я
перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось,
имела дно, оттолкнувшись от коего я неминуемо всплывал на поверхность.
Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только
для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая
конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо
понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и
протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы
много горестей ни наваливалось на человека единовременно, всегда у него в
запасе остается что-нибудь для согрева души.
Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые, Петька и
Сашка, и ни с чем не сравнимое умилительное удовольствие доставлять им
радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно
чувствуешь вину, а за что - непонятно, наверное, за то, что она твоя,
плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И бутылочка
\"пльзеньского\" в клубе... Банально, я понимаю, - \"пльзеньское\", так ведь и
все радости банальны! А безответственный, для души, треп в клубе, это что,
не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах
спозаранку в лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены
домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и
воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако
никогда не надоедает.
Я всем настоятельно советую почитать Анхеля де Куатьэ... Я сначала очень скептически относился к его книгам... Но сейчас, прочитав всю серию "Скрижалей"... мне по настоящему жить легче. Так на меня ещё никто из авторов не влиял 
wess
Елена Блаватская??? Прямо её не читал, но сейчас читаю Мулдашева - он там в одной главе постоянно на неё ссылается! Как раз на эту книгу! Ты рекомендуешь?
Елена Блаватская??? Прямо её не читал, но сейчас читаю Мулдашева - он там в одной главе постоянно на неё ссылается! Как раз на эту книгу! Ты рекомендуешь?
AlexReed
Не надо читать Блаватскую,а уж Мулдашева--и подавно.Мягко выражаясь,тлетворное это чтиво.Если вкратце--каша из гностических учений с основной концепцией:вы--черви,есть у вас хозяева,чтите их,хотя и это бессмысленно.Если уж потянуло на оккультное,то здесь маст рид--Алистер Кроули,Г.Гурджиев,Успенский,Кастанеда,суфии...Это по настоящему большие книги,ими убивать можно :biggrin:
Не надо читать Блаватскую,а уж Мулдашева--и подавно.Мягко выражаясь,тлетворное это чтиво.Если вкратце--каша из гностических учений с основной концепцией:вы--черви,есть у вас хозяева,чтите их,хотя и это бессмысленно.Если уж потянуло на оккультное,то здесь маст рид--Алистер Кроули,Г.Гурджиев,Успенский,Кастанеда,суфии...Это по настоящему большие книги,ими убивать можно :biggrin:
AlexReed
Рекомендую?)) Это сильно сказано))) Я вот сам и не знаю что с этими кинигами делать))) После прочтения сжечь или по частям заучивать как стих)))) А Мулдашев.... мне кажется он сказочник Андерсон))))) Ей Богу ))))
Хотя я не осуждаю никого...))))
Valash
Чего порекомендуеш еще почитать??))) Конкретно?))) Кастанеда был уже)))) Че понравилось???))))
Рекомендую?)) Это сильно сказано))) Я вот сам и не знаю что с этими кинигами делать))) После прочтения сжечь или по частям заучивать как стих)))) А Мулдашев.... мне кажется он сказочник Андерсон))))) Ей Богу ))))
Хотя я не осуждаю никого...))))
Valash
Чего порекомендуеш еще почитать??))) Конкретно?))) Кастанеда был уже)))) Че понравилось???))))
wessТы нарвался на библиофила маньяка...С оккультным уклоном...
Если напишешь,что конкретно тебя интересует,думаю,смогу подкинуть список.А Мулдашев не просто сказочник--он шизофреник с умением(редкий случай) зашибать деньгу.А жаль,ведь какой был офтальмолог,чё его в Лемурии понесло?
Если напишешь,что конкретно тебя интересует,думаю,смогу подкинуть список.А Мулдашев не просто сказочник--он шизофреник с умением(редкий случай) зашибать деньгу.А жаль,ведь какой был офтальмолог,чё его в Лемурии понесло?
wess
Я тоже не осуждаю... как-то пока ничего не читается, лежит в сторонке. Вообще самое последнее, что до сих пор крутится в голове - это Куатьэ... Уж очень сильно он меня зацепил! Много, много там всего такого, над чем стоит поразмыслить...
Я тоже не осуждаю... как-то пока ничего не читается, лежит в сторонке. Вообще самое последнее, что до сих пор крутится в голове - это Куатьэ... Уж очень сильно он меня зацепил! Много, много там всего такого, над чем стоит поразмыслить...
а чё тока книжки - можно еще фильмец посмотреть какой нибуць хароший....
тока не америкозов - у них заместо души маркетинг сплошной, екамендую "фестивальное" европейское кино - вот где кладезь душевности и оптимизма!
Это я вам как пессимист со стажем говорю
тока не америкозов - у них заместо души маркетинг сплошной, екамендую "фестивальное" европейское кино - вот где кладезь душевности и оптимизма!
Это я вам как пессимист со стажем говорю
Рекомендую всем читать Ричарда Баха. Вот реальный антидепрессант. От его книг хочется творить, точнее музыка рожается в голове (или не в голове).
Читать можно все, особенно это: http://lib.ru/RBACH/
Читать можно все, особенно это: http://lib.ru/RBACH/
О! Цитата про наш форум из "Иллюзий":
Некоторое время он молча жевал оладью.
"Ты знаешь", - сказал он наконец, обдумывая поглощаемое, - "это просто отрава".
"А никто и не говорит, что ты обязан есть мои оладьи", - сказал я сердито. "Почему это все так ненавидят мои оладьи? Никто не любит мои оладьи! Почему это так, Небесный Учитель?"
"Дело в том", - сказал он, усмехнувшись", - и я сейчас говорю от имени Бога, что ты веришь в то, что они хороши, и поэтому на твой вкус они хороши. Попробуй свою оладью без глубокой веры в то, что ты веришь, и ты почувствуешь, что это нечто... вроде пожарища... после наводнения... на мельнице, тебе так не кажется? Кстати, ты, конечно же, специально положил в оладью эту траву?"
"Прости. Она, видно, упала с моего рукава. Но тебе не кажется, что сама по себе оладья, нет, конечно же, не трава, и не этот немного подгоревший кусочек, нет, сама оладья по себе, тебе не кажется...?"
"Гадкая", - сказал он, возвращая мне всю свою половину оладьи, одного укуса ему оказалось вполне достаточно. "Я скорее умру с голода. Персики еще остались?" :biggrin: :yees:
Некоторое время он молча жевал оладью.
"Ты знаешь", - сказал он наконец, обдумывая поглощаемое, - "это просто отрава".
"А никто и не говорит, что ты обязан есть мои оладьи", - сказал я сердито. "Почему это все так ненавидят мои оладьи? Никто не любит мои оладьи! Почему это так, Небесный Учитель?"
"Дело в том", - сказал он, усмехнувшись", - и я сейчас говорю от имени Бога, что ты веришь в то, что они хороши, и поэтому на твой вкус они хороши. Попробуй свою оладью без глубокой веры в то, что ты веришь, и ты почувствуешь, что это нечто... вроде пожарища... после наводнения... на мельнице, тебе так не кажется? Кстати, ты, конечно же, специально положил в оладью эту траву?"
"Прости. Она, видно, упала с моего рукава. Но тебе не кажется, что сама по себе оладья, нет, конечно же, не трава, и не этот немного подгоревший кусочек, нет, сама оладья по себе, тебе не кажется...?"
"Гадкая", - сказал он, возвращая мне всю свою половину оладьи, одного укуса ему оказалось вполне достаточно. "Я скорее умру с голода. Персики еще остались?" :biggrin: :yees:
меня прет с философии в "хрониках амбера" желязны, если отбростить милитаризм и помпу... простите транскрипцию...
ты излучаешь свой внутренний мир во внешний, и он начинает менятся, и чем сильнее ты светишь, сильнее веришь, тем быстрее он меняется
а иногда страшно чего-ть не то навыдумывать... кто там лапу приложит господь бог или джин?...
а может тут нет никакой мистики, а стечение обстоятельств и настойчивость
и вообще вокруг тьма параллелных миров, оглянись и выбери какой-нибудь, если в своем стало неуютно
ты излучаешь свой внутренний мир во внешний, и он начинает менятся, и чем сильнее ты светишь, сильнее веришь, тем быстрее он меняется
а иногда страшно чего-ть не то навыдумывать... кто там лапу приложит господь бог или джин?...
а может тут нет никакой мистики, а стечение обстоятельств и настойчивость
и вообще вокруг тьма параллелных миров, оглянись и выбери какой-нибудь, если в своем стало неуютно
dmrecords
Ни ФИГА СЕБЕ??? Как ты так точно попал? В моей жизни... и в жизни любимой девушки сейчас творится что-то... что очень связано с этими фразами Ни фига совпадение! На RMM не тока про музыку мона узнать
Ни фига совпадение! На RMM не тока про музыку мона узнать 
А кто автор Хроников Амбера?
Про фильмы... могу посоветовать:
Три цвета - трилогия (Белый, Синий, Красный), три разных режиссёра, три разные судьбы, который каким-то мистическим образом переплетаются друг с другом. Советую смотреть именно в том порядке, который я написал, так как в последнем Красном - всё складывается воедино! Цепляет! :yees:
А если наоборот хочется ужасного настроения, можно посмотреть "Необратимость" :biggrin:
Реально самый шокирующий и давящий на психику фильм...
Ни ФИГА СЕБЕ??? Как ты так точно попал? В моей жизни... и в жизни любимой девушки сейчас творится что-то... что очень связано с этими фразами
А кто автор Хроников Амбера?
Про фильмы... могу посоветовать:
Три цвета - трилогия (Белый, Синий, Красный), три разных режиссёра, три разные судьбы, который каким-то мистическим образом переплетаются друг с другом. Советую смотреть именно в том порядке, который я написал, так как в последнем Красном - всё складывается воедино! Цепляет! :yees:
А если наоборот хочется ужасного настроения, можно посмотреть "Необратимость" :biggrin:
Реально самый шокирующий и давящий на психику фильм...
Рождер Желязны (Roger Zelazni) у него через разные романы эта тема проходит
не, в жизни и так полно несчастий, зачем их специально себе навязывать?
люди, давайте больше позитива, не типа все хорошо и ладно, а с развитием, креативного позитива, чтобы он от тебя переходил к другому и так дальше, волной, цунами, пора смыть грязь с этого захламленного мира
не, в жизни и так полно несчастий, зачем их специально себе навязывать?
люди, давайте больше позитива, не типа все хорошо и ладно, а с развитием, креативного позитива, чтобы он от тебя переходил к другому и так дальше, волной, цунами, пора смыть грязь с этого захламленного мира
Рифмы жизни (музыкантам посвящается)
В жизни есть рифмы
В жизни есть рифы
Сегодня ты пишешь
А завтра разбит
В жизни есть титры
В жизни есть литры
Сегодня ты в кадре
А завтра забыт
В жизни есть слава
Найди на нее управу
Скажи правду людям
Если ты знаменит
В жизни есть капканы
Их ставят растаманы
Смотри же под ноги
Или будешь убит
В жизни есть рамки
В жизни есть самки
Забрось в темный угол
Их приличья и быт
Ведь в этой жизни есть солнце,
Но не то, что в оконце
Тепло его сердце
Так нежно хранит
refrain:
В жизни есть краски!
В жизни есть сказки!
Открой им двери
Ведь ты не гранит
Жизнь - это такое чудо!
Откуда ты знаешь, откуда?
Упс... вырубай свой чайник
Он сейчас закипит
refrain:
В жизни есть верность!
В жизни есть нежность!
Открой им двери
Ведь ты не гранит
В жизни есть ветры!
Сквозь эти километры,
Подними паруса!
Твой карабль летит!
refrain:
В жизни есть радость!
В жизни есть сладость!
Открой им двери
Ведь ты не гранит
Жизнь - это такое счастье!
Забудь про все ненастья!
Ты же знаешь ответ,
Кто в пути - победит!
Умопорачительнейшее гитарное соло:
вжжжжжиииииууууууйоооооуууууааааафффффиииииууууу
В жизни найди свое место
Из какого ты сделан теста?
Ты вместе с нами
Если душа болит
В жизни есть рифмы
В жизни есть ритмы
Если ты их услышишь
Мир тебя сохранит
В жизни есть рифмы
В жизни есть рифы
Сегодня ты пишешь
А завтра разбит
В жизни есть титры
В жизни есть литры
Сегодня ты в кадре
А завтра забыт
В жизни есть слава
Найди на нее управу
Скажи правду людям
Если ты знаменит
В жизни есть капканы
Их ставят растаманы
Смотри же под ноги
Или будешь убит
В жизни есть рамки
В жизни есть самки
Забрось в темный угол
Их приличья и быт
Ведь в этой жизни есть солнце,
Но не то, что в оконце
Тепло его сердце
Так нежно хранит
refrain:
В жизни есть краски!
В жизни есть сказки!
Открой им двери
Ведь ты не гранит
Жизнь - это такое чудо!
Откуда ты знаешь, откуда?
Упс... вырубай свой чайник
Он сейчас закипит
refrain:
В жизни есть верность!
В жизни есть нежность!
Открой им двери
Ведь ты не гранит
В жизни есть ветры!
Сквозь эти километры,
Подними паруса!
Твой карабль летит!
refrain:
В жизни есть радость!
В жизни есть сладость!
Открой им двери
Ведь ты не гранит
Жизнь - это такое счастье!
Забудь про все ненастья!
Ты же знаешь ответ,
Кто в пути - победит!
Умопорачительнейшее гитарное соло:
вжжжжжиииииууууууйоооооуууууааааафффффиииииууууу
В жизни найди свое место
Из какого ты сделан теста?
Ты вместе с нами
Если душа болит
В жизни есть рифмы
В жизни есть ритмы
Если ты их услышишь
Мир тебя сохранит
На самом деле я считаю, что музыка - как любовь... Когда пишешь в основном для себя, то и получается вяло (по крайней мере у меня так), а когда - для кого-то (будь хоть даже заказчик  ), то как-то лучше, идейнее получается.
), то как-то лучше, идейнее получается.
Для меня главное, если пишешь и кому-то нравится, значит не зря, и есть стимул писать дальше
Для меня главное, если пишешь и кому-то нравится, значит не зря, и есть стимул писать дальше
Сейчас просматривают
Всего: 1 (пользователей: 0, гостей: 1)